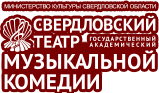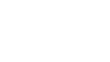Сергей Вяткин: «Любую роль сначала обхохочу»
В начале своей карьеры в Свердловской музкомедии ему случилось играть простака Тони
в «Принцессе цирка». На репетиции в одной из сцен надо было пробежать и спрятаться
за банкетку. Пробежал. И вдруг режиссер Кирилл Стрежнев чуть не в крик: «Куда ты
несешься?! Не спортсмен ведь…». Заслуженные и народные, от одного присутствия которых
рядом молодого артиста «прижимало к сцене», успокаивали его: мол, половина эмоций
режиссера относилась в целом к чему-то не заладившемуся. Но он с тех пор навсегда
запомнил: ты не спортсмен — бездумно носиться по сцене. Если бежишь, то — для чего
и как? Спортивная же терминология актуальна в искусстве только в одном смысле: если
«взял планку» — брать высоту ниже уже не имеешь права. С этим принципом заслуженный
артист России Сергей Вяткин работает в театре уже 35 лет.
ГЕРОЙ В ОПЕРЕ И ОПЕРЕТТЕ — НЕ ОДНО И ТО ЖЕ
Сергей включает на телефоне давнюю видеозапись. Хранит ее, потому что не стыдно. Может гордиться. Они были тогда с ансамблем «Изумруд» на гастролях в Испании. Распевался по пути, в автобусе. Там же учил особенности испанского произношения. Волновался, конечно, — за произношение и за верхние ноты. Но «Гранаду» на концерте в Сан-Себастьяне спел так, что коллеги и сопровождающие стали подначивать: «Слушай, тебя можно раскручивать, как Каррераса…».
Вспоминает об этом с улыбкой. Никаких печалей по поводу возможной сольной карьеры нет. Более того, припоминает, как в юности, едва заслышав романс или оперную арию по телевизору, тотчас выключал его. Вот «Песняры», «Веселые ребята», «Биттлз» — это да! Ими заслушивались. Им подражали. Во дворе, под гитару. Только со временем Сергей понял: век эстрадного певца недолог. Академическое пение — иное дело. В ту сторону и двинул. И в Уральской консерватории, как большинство студентов тогда, оперетту за искусство не считал. Не было ее в консерваторском контексте. Из жанра оперетты студенты знали разве что арию Мистера Икс. А однокурсница, пытавшаяся петь «Карамболину», казалось им, чудила.
Но он шел в вокал в своеобразные для искусства времена. Железный занавес «перекрывал горло» даже корифеям, первачам в пении. Ни гастролей, ни стажировок, ни участия в зарубежных спектаклях. Атлантов, Пьявко, Штоколов обязаны были петь исключительно для родной державы. И попробуй, пробейся начинающий певец. Начинающим так и говорили: «Ты сначала попой где-нибудь, потом придешь пробоваться в оперу». Поэтому для выпускника консерватории Сергея Вяткина началось все с Омского музыкального театра. Да, ему, тенору с удивительной красоты тембром, сразу дали петь в «Травиате», «Севильском цирюльнике». Но это было странное актерское существование. Вечером — Альфред в «Травиате», наутро — Кот Леопольд в детском спектакле. Да еще с голосовыми «штурмами» в сценах, где Леопольд наелся озверина. А как вечером снова петь благородно-героическое, когда утром наорешься?!
Молодой актер очень скороначал понимать то, в чем сегодня убежден: «смешанные» музыкальные театры — утопия, невозможно равно хорошо петь и оперу, и оперетту. Герой в опере и простак в оперетте — два разных регистра, разное звукоизвлечение. Даже герой в опере и оперетте — не одно и то же. С особенной силой он сознавал Айзенштайн в «Летучей мыши» это, когда в короткие наезды на Урал смотрел в свердловском оперном такие пектакли, как «Сказки Гофмана» в постановке Александра Тителя. Понял: надо определяться в жанре. И даже попробовал. Свердловская опера пригласила его на роль Шута в спектакле «Шут и Король». Театру нужен был вокалист-актер.
ОТ ПРИНЦА ДО... ИЗВОЗЧИКА
Понимаю, что немного отступила от темы — 35 лет служения Вяткина Свердловской музкомедии. Но для меня, как и для самого Сергея, очень важны эти «подступы» к главному театру и главному жанру его жизни. Не прямые, с жанрово-вокальными зигзагами. А главное — размышления по поводу этих зигзагов выдают в нем думающего Актера. Ироничного и думающего. Не каждый — такой… Примеривши на себя, в силу разных обстоятельств, высокую оперу и «легкий жанр», Сергей готов сегодня оценивать объективно: опера — супержанр, и любой вокалист стремится в нее. — В опере ты можешь сохранить голос и развить, — говорит он.— В оперетте цель— сохранить и не потерять. Солисты оперы даже вне сцены говорят вокально, чтобы не нарушить голосовой аппарат, связки. А в оперетте, даже в пении, приходится вести себя антивокально, ведь здесь роли — от героических до характерных, да еще с причудами. Ты подстраиваешься под них — и незаметно твой голос, твой аппарат расстраивается. Как фортепиано. Тут опаснее… Я же говорила: он ироничен. Но, понимая все про «опасность» оперетты, он пришел в этот жанр и остался навсегда. Может быть, потому, что это Свердловская музкомедия. Театр-эталон. Театр-мечта. Жанр открывал огромный актерский — именно актерский! — диапазон, огромные возможности. Театр же позволял их реализовать. Сегодня Сергей перечитывает мемуары Михаила Чехова и, как рассказывают родные, все время спорит с ним. Решительно не согласен, например, с тем, что великий актер требует «создавать атмосферу в каждой сцене». Атмосферу должен создавать спектакль. Вот у Кирилла Стрежнева именно атмосферные спектакли. Каждый словно под своим куполом, внутри которого — свой особый аромат. Атмосферу одного спектакля не спутаешь с атмосферой другого, и актеры «внутри» хорошо понимают, про что играют. И эта ясная, внятная «точка отсчета» — желанная свобода для артиста, возможность фантазировать, пробовать. Даже во время спектакля.
— Репетиции, понятное дело, любимы всеми актерами, — говорит Сергей. — Ты лепишь из себя образ, как из гуттаперчевого человека. Можешь себя мять, дурачиться. Искать. Иногда на парадоксе. Я даже серьезные роли сначала обхохочу, потому что в любом серьезе есть много смешного. Но и во время спектакля люблю неожиданности. Люблю вывихи из контекста. Тогда — живой глаз у партнера, живая реакция, а не только «как договорились»… Это в нем Актер говорит, лицедей. Тот, что оказался востребован когда-то даже в каноническом жанре оперы. Но максимально раскрылся именно в «легком жанре». Опасном для голоса. Но благодатном для лицедейства. Сергей Вяткин — счастливейший человек: он спел в театре столько, что не всякому тенору снилось. Спел практически все, что мог в «предлагаемых обстоятельствах». А диапазон?! От принца Раджами в «Баядере» до вечно поддатенького Ефима Исаевича в «Женихах». Ровно 20 лет назад на сцене Свердловской музкомедии появилась «Баядера», которая нарушила «правила игры» в истории европейской актрисы и восточногопринца. Не два любящих героя, а некто третий — злодей. «Краской злодея» был отмечен сам принц Раджами, не сомневающийся в своем праве на любовь Одетты и не признающий отказа. В исполнении Сергея Вяткина «злодейство» Раджами — эгоизм и самолюбие — удивительным образом переплетались с силой любовной страсти. Эгоизм и страсть были равными соперниками в сердце самого Раджами, и исход был непредсказуем. Хэппи-энд — просто не напрашивался. Непривычно? Конечно. Но из экзотического восточного истукана, непонятно как завладевающего душой Одетты, принц в этой постановке превратился в живого человека, раздираемого страстями: то сильного, то растерянного. И наконец-то было понятно — такой может увлечь. Не райскими песнопениями (все-таки Кальман дьявольски чарующий мелодист), а мятежностью духа. — Но Раджами по статусу — так называемый фрачный герой, — вспоминает Сергей. — После простаков надо было «надеть узду» на себя — в жестах, поворотах головы, темпоритме. У кого-то от природы — осанка, порода. Мне пришлось овладевать. Ведь даже искусство правильно поцеловать даме руку сегодня мало кому ведомо. Спрашивал у Юрия Александровича Чернова, с которым делили гримерку. Подсматривал из-за кулис за Анатолием Бродским — вот кто настоящий герой на сцене. Помогали советы хореографа-репетитора Нины Сергеевны Стрельцовой. Идет по театру, увидит меня — «Ласточка, держи спину!». Да и я был пытлив, хотелось сделать Раджами достойно. Тем более, что он был такой неоднозначный в той постановке. Постепенно получилось, но — постепенно. Пришлось ломать себя. А с «Женихами» как раз все наоборот. В Омском театре я наигрался простаков, поэтому, придя в Свердловскую музкомедию, скрывал свою характерность. Я петь хотел. Хотел вокальных партий. Но когда дали роль Ефима Исаевича, словно старые шлюзы открылись. Все удивлялись: надо же, героев пел, а тут вдруг пьяненького извозчика так здорово сделал. А мне это большого труда не стоило. Единственное: понял в то время — чтобы быть смешным, не надо смешить. Я играл незадачливого жениха Ефима Исаевича… серьезно. Видимо, что-то получилось, потому что некоторые интонации моего Ефима «уходили в народ», в обычной жизни их повторяли хор и оркестр. Могу гордиться… Конечно, может. За роль второго плана в спектакле «Женихи» Сергей Вяткин был удостоен театральной премии «Браво!».
ТЕНОРА — ОСОБАЯ КАСТА
Актер — краска в палитре театра. «Одна из…». Исполнитель режиссерского замысла. Но случается, актер определяет звездные часы театра. Так было с трио теноров Свердловской музкомедии. Не вспомнить об этом нельзя, ведь, в сущности, в судьбе Сергея Вяткина сбывалось давнее предсказание: «Тебя же можно раскручивать, как Каррераса...»
Тенора в театре — особая каста. Каких только восторженных эпитетов не существует на их счет. Самый красивый голос. Дефицитный. Сексуальный. Известны случаи (и не один, не два), когда пение тенора приводило слушательниц в обморочное состояние. И тут не отмахнешься: дескать, слабые нервы и повышенная женская чувствительность. Исключительность тенора среди всех певческих голосов признается даже в мужской вокальной компании. Словом, сочный, одновременно нежный и мужественный голос — что-то вроде «persona gratissima» в театре. Самый желанный. Избранный. А если на сцене — три тенора?
В 1990-е у всех на слуху было только что родившееся трио Паваротти-Доминго-Каррерас. Их концерт в Риме и по сей день — сенсация. Известное наизусть (до нот, мизансцен, партнерских взаимоотношений на сцене) чудо, в которое ты, тем не менее, готов погружаться снова и снова. А тогда это был взрыв, шок, альянс высочайшего вокала и классного шоу. И вот когда публика умирала от обожания к трио Паваротти-Доминго-Каррерас, мудрый менеджер Свердловской музкомедии Игорь Лейфель предложил однажды: «Ребята, а не создать ли вам что-то вроде…». В претенденты попали Сергей Вяткин, Михаил Шкинев и Николай Капленко. В теноровом регистре у каждого — своя краска. Свои диапазон, тембр, сила. Но если соединить их, побудить звучать вместе? Возможен такой парад вокала! Риск? Конечно. Да еще какой. Можно было провалиться на дебюте. Ведь сравнения с ТЕМ трио теноров были неизбежны. И все же они рискнули. Отважились. Никогда не забуду, как на одном из первых их концертов кто-то из зрителей басовито выкрикнул на весь зал: «Отважные мужики!» И осекся: в театре такое не принято. Но никто не зашикал возмущенно. Уже в следующее мгновение выходку «нахала» накрыл шквал аплодисментов. — Это мог быть классный коммерческий проект, — говорит Сергей. — Мы могли петь репертуар, какой хотели. Могли петь на любой площадке. Но это понимание пришло со временем. Вначале мы просто ошалели от того приема, какой устроили нам зрители. Ни на одном спектакле мы не переживали того успеха, что был у трио. И это можно было использовать для блага театра. Для творческого кайфа нам, тенорам. Какое-то время так и было…
Проблема была в аккомпанементе. В некоторых концертах они выступали в сопровождении оркестра музкомедии. И на ее сцене, конечно. Вне театра — под фонограмму. Отвага и творческий кураж вели их тропами, не хожеными в то время. Где-то раздобыли-отыскали запись Лондонского оркестра, исполнявшего попурри популярных мелодий. И, где под оркестр, где под эту фонограмму, пели хиты Кальмана, Штрауса, неаполитанские «О, мое солнце» и «На качелях». Их узнали. Стали приглашать. Нашелся импресарио, который предложил «свободный полет и гарантированный успех». На разных сценах и в разных залах. Но для этого надо было оставить одну-единственную сцену. Родную. — А «отвязаться» от театра не получалось. Да и не хотелось, — говорит Сергей. — Но трио теноров — вовсе не «прошлая история». Оно существует. Уже больше 20 лет. Правда, теперь в другом составе: Капленко-Вяткин-Толстов… Вот это для меня новость. Радостная, потому что формат, вкотором в России больше никто не работает, продолжает свою творческую жизнь в Екатеринбурге. Грустная, потому что даже в Екатеринбурге о трио знают немногие. Да, они поют. Да, востребованы. Но замах был больше. Без ложной скромности — на российский феномен. Впрочем, потенциал, похоже, еще не утрачен…
СНАЧАЛА ЧУЖОЕ — ПОТОМ «СНИМАТЬ» НЕ ХОЧЕШЬ
Сегодня у него в театре небольшие роли. Эпизодики, как говорит сам Вяткин. Обычная судьба возрастного актера в вечно молодом жанре оперетты. Кто-то страдает от этого, тщится играть героев-героинь до тех пор, пока уже и зрителям в зале становится неловко. У Вяткина с самооценкой все нормально. И с философским отношением к тому, что актерская востребованность изменчива, из-за возраста — тоже. Напротив, в нем все сильнее понимание, что даже с «Кушать подано» ты ДЛЯ ЧЕГО-то выходишь на сцену. Значит, и в двух словах надо извернуться так, чтобы тебе либо улыбнулись в зале, либо запомнили. Он, к счастью, понимал это и в молодости. — Был когда-то у нас спектакль «Венская кровь», — рассказывает. — В первом акте я играл извозчика, во втором — князя. У того и другого по паре слов. Один просит денег добавить и уходит. Второй на своем балу объявляет гостей — и уходит. Как конферансье. Но надо же сыграть! А тогда в Европе было много беженцев. Подумал: почему извозчику не быть беженцем? Придумал акцент, грим восточного человека. Другой колорит получился. Что касается князя, он же на собственном балу, может чудить, как хочет. И он у меня чудил. Вел диалог с… игрушечной мышью (которую я у дочери позаимствовал), обыгрывал парик, катался на роликах. Да, это потребовало суеты — переодеваний за кулисами. Коллеги спрашивали: «Тебе это надо?». Надо! У него своя собственная, любопытная философия, что есть роль. Любая из них все равно что костюм. Сначала чужая — потом снимать не хочешь. Но между этими двумя «точками» дистанция длинная и содержательная. Надо «обносить костюм», привыкнуть к нему, приладиться. А когда он уже твой — можешь импровизировать в роли. Причем, импровизировать будешь не ты, Сергей Вяткин. Ты — уже не ты. Импровизировать будет твой герой. Потому что ты уже свободен в роли. Купаешься в ней. Да, сегодняшние «костюмы» тесноваты ему. Маловаты по дарованию. Но сходите специально на «Боккаччо», недавнюю премьеру театра, посмотрите на Чекко в исполнении Сергея Вяткина. Тот самый случай, когда «маленьких ролей не бывает».
Он по-прежнему выкладывается по полной. Из актерского куража. Из любви к сцене. Из благодарности театру. — Волшебная профессия! — говорит не склонный к пафосу Вяткин. — В 1990-е, в финансово тяжелые годы, театр спасал. Помните ведь: экономически в стране и в семьях все было плохо, а выживать надо. Я в свободное от театра время даже торговать пробовал. Не мое это, а что делать? Но приходил в театр, нырял в спектакле в другую эпоху, другие отношения — и жизнь налаживалась...