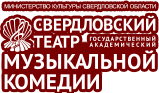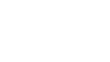Маренич - Слизняк
 Распахивается дверь, и в маленький зал кафе вваливается подвыпивший человек по фамилии Слизняк. После мы узнаём, что он прислуживает фашистам, оккупировавшим русский городок? Появился он слегка навеселе, в меру развязен и интересен. Говорит о скорой женитьбе, строит планы. Наливает в стакан водку, выпивает. Пьяная гримаса искажает лицо. Воровато озирается по сторонам, сам с собой рассуждая о жизни. Не контролирует речь, говорит всё громче, озирается о краешек стола, не в силах уже поймать в руки неподдающийся гранёный сосуд. Ловит его, наконец, снова выпивает, какие-то утробные звуки вылетают из неразжатого рта. Шатается, бедолага, теряет равновесия, а орёт как раз об устойчивости и покое в жизни. Видит себя в зеркале, с ненавистью реагирует на собственное отражение, общается с ними делится сокровенной тайной, произнося слово, намертво засевшее где-то в печёнках: страх.
Распахивается дверь, и в маленький зал кафе вваливается подвыпивший человек по фамилии Слизняк. После мы узнаём, что он прислуживает фашистам, оккупировавшим русский городок? Появился он слегка навеселе, в меру развязен и интересен. Говорит о скорой женитьбе, строит планы. Наливает в стакан водку, выпивает. Пьяная гримаса искажает лицо. Воровато озирается по сторонам, сам с собой рассуждая о жизни. Не контролирует речь, говорит всё громче, озирается о краешек стола, не в силах уже поймать в руки неподдающийся гранёный сосуд. Ловит его, наконец, снова выпивает, какие-то утробные звуки вылетают из неразжатого рта. Шатается, бедолага, теряет равновесия, а орёт как раз об устойчивости и покое в жизни. Видит себя в зеркале, с ненавистью реагирует на собственное отражение, общается с ними делится сокровенной тайной, произнося слово, намертво засевшее где-то в печёнках: страх.
Так, между тремя возлияниями Маренич сыграл сжатую "душеграмму" роли, а, может, целый спектакль, выросший из актёрской импровизации. Но сцена не разрушалась нагромождением трюков, наполненных опереточной сценической традицией в изображении пьяного человека. Композиция её стройна, психологический подробна, пластически совершенна. В опьянении он играл процесс саморазоблачения героя ? не лобовой, не тенденциозный, а текущий исподволь, из очертаний сменной фактуры роли. Другой бы на его месте проиллюстрировал в пластике в пластике говорящую фамилию и имел успех у публики и рецензентов. Этот ? нет! Он будто взращивает образ слизняка из сути, не обращая внимания на то, что уже представлен по фамилии в афише. Его натуральный, из нутра выдавленный Слизняк на глазах у нас терял над собой контроль, уже не в состоянии заглушить водкой вопль ужаса от себя самого.
Трагифарс ? финал Слизняка. Гестаповцы, введённые в заблуждение, принимают нелепого героя современной театральной чаплинианы за разведчика Никифора. Когда Слизняка хватают за руки, Маренич играет совсем другое: только что обезумевший Слизняк стремительно трезвеет. Момент отрезвления так отчётливо резок, что кажется, будто в человеке оборвалась жизнь. Черты носатого маренического лица ещё заострились, челюсть отвисла, сморщились щёки, обмякло тело. Это была поразительная метаморфоза, достигнутая искусством потрясающего мима. Здесь, вопреки мнимой специфике оперетты, не смеялись. Не смеялись и потом, когда Маренич, словно перейдя от чувственной реакции на событие к его предсмертному сознанию, заорал во всю пересохшую глотку: "Какой я Никифор! У меня на лице написано, что я Слизняк!"